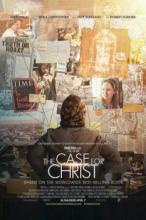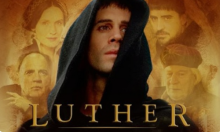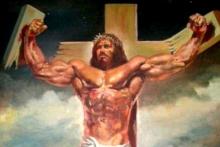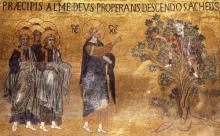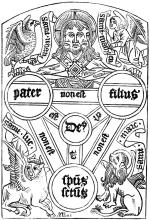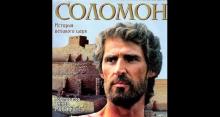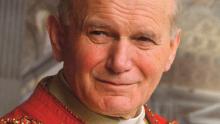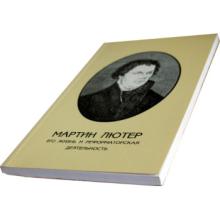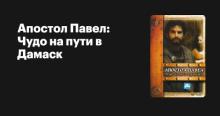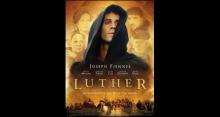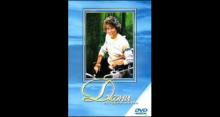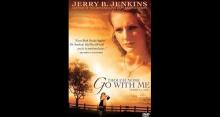Авт: Уильям Скайлз (пер. с анг. Глеб Марьясов)
Хотя Гитлер и нацистский режим не смогли взять под контроль немецкие церкви и подчинить их нацистской идеологии, они всё же принимали меры для вмешательства в церковные дела и преследования верующих. Нацисты стремились ослабить христианское влияние на общество, чтобы расчистить путь для морали, основанной на национал-социализме, — морали, сформированной нацистскими представлениями о «чистоте» крови и необходимости достаточного количества земли для поддержания «арийского» превосходства.
Историки подробно описали аресты и заключения известных пасторов и церковнослужителей, сопротивлявшихся нацистскому режиму, а также исследовали, как правительство Гитлера вмешивалось в усилия церквей по катехизации молодежи и служению своим общинам. Однако один из тактических приемов, который редко обсуждается, — это вмешательство режима в колокольный звон. Церковные колокола на протяжении веков звонили по всему христианскому миру, отмечая время и особые события, созывая общину на богослужение и побуждая людей к коллективному действию, например - к защите города от вражеской армии.
Хотя пронацистски настроенное духовенство иногда вмешивалось в установленный порядок колокольного звона, более распространённой тактикой нацистов во время войны стала конфискация самих церковных колоколов для переплавки в сырьё, используемое в военных целях. Подобные действия были прямо запрещены Гаагской конвенцией 1907 года. Однако нацисты, что неудивительно, игнорировали эти предписания. Историк Кирилли Фримен показала в своем исследовании, что режим Третьего Рейха переплавил почти 150 000 церковных колоколов во время Второй мировой войны[1]. Агенты гитлеровского правительства конфисковали 90 000 колоколов только в Германии, но также они изымали колокола на оккупированных немцами территориях по всей Европе. Церковные колокола классифицировались по категориям от A до D в зависимости от их художественной и исторической ценности, причём колокола категории D, созданные до 1740 года, имели наибольшую историческую значимость. По мере продолжения войны нацистское правительство изымало колокола и отправляло их в так называемые Glockenfriedhöfe («колокольные кладбища»), где их переплавляли для получения металлов, в основном меди и олова[2].
На первый взгляд, эти действия против колокольного звона могут показаться незначительной провокацией или просто попыткой воспользоваться как можно большим количеством ресурсов. В конце концов, церковный звон, вероятно, не кажется чем-то действительно важным для кого-либо. В Германии во время войны никто не пострадал от этих действий, никто не лишился средств к существованию. Так почему же мы должны считать вмешательство нацистов в колокольный звон исторически значимым, и какое значение это может иметь для христиан сегодня?
Мне кажется, что церковные колокола можно сравнить со звуковыми версиями монументов, представляющих институты, которые вдохновили их создание и создали их; более того, они являются звуковым сигналом конкретного сообщества, ограниченного определенным пространством. Это голоса церквей, которые звучали тысячелетиями и продолжают звучать по всему миру. Все, кто слышит колокольный звон, призываются им к поклонению и молитве или к особому событию, значимому для общины, такому как свадьба или похороны. Именно по этим причинам контроль над колоколами общины означает форму политической власти. И, как это доказали и исследователи, стремление нацистов завладеть церковными колоколами во Второй мировой войне было не просто попыткой добыть материальные ресурсы для военных нужд, но частью идеологической и политической кампании против церквей[3]. Конфискация колоколов была проведена, чтобы подчинить и заставить замолчать церкви. Изъятие колоколов стало коварной попыткой заглушить призывный голос Церкви в то время, когда нацистский режим вел войну за немецкое lebensraum (жизненное пространство) и стремился «искоренить еврейство».
Сегодня колокольный звон можно услышать не так часто. Там, где я живу — в пригороде на юго-востоке Вирджинии, — церковные колокола вообще не звучат. У церкви действительно могут быть веские причины не звонить в колокола. Возможно, колокола не обслуживались и пришли в негодность. Городские постановления могут содержать ограничения на шум, мешающий жителям, что препятствует использованию колоколов. Или же, в особых случаях, церковь может воздержаться от звона в периоды скорби и траура — например, во время национальных трагедий или в память о недавно умерших. Однако отсутствие колокольного звона должно быть исключением, а не нормой.
Я убеждён: если у церкви есть колокола, она должна звонить в них осмысленно и с определённой целью. Учитывая историю нацистской Германии и конфискацию церковных колоколов во время Второй мировой войны, нам важно использовать их как выражение нашей общей христианской идентичности и коллективных ценностей. Приведу несколько причин, почему это важно.
Во-первых — и это очевидно, — колокольный звон прекрасен. Его радостный звук возвышает дух. Более того, он не просто вызывает благостные чувства, но и направляет наш мысленный взор вверх — к Церкви, призывая нас помнить о нашем предназначении и в повседневной жизни.
Во-вторых, когда звонят церковные колокола, их слышит вся община, объединяясь в этот момент священного звучания. Колокольный звон оповещает всех о времени или возвещает начало службы. Он сплачивает общину, отмечая важные события - будь то радость свадьбы молодой пары, начинающей совместный путь, или скорбь по усопшему близкому человеку. Более того, когда звонят колокола и идёт служба, люди знают, что в этот момент за них молятся - за их город и страну, даже если они сами не присутствуют на богослужении. Колокольный звон несёт в себе осознание того, что наши молитвы - молитвы общины верующих - возносятся к Богу.
В-третьих, как уже упоминалось, колокольный звон связывает верующих с тысячелетней традицией Церкви. Колокола украшают церковные колокольни с раннего Средневековья и продолжают звучать и сегодня. Они напоминают нам, что мы принадлежим к очень древней традиции, которая вдохновляет и наполняет глубоким смыслом нашу жизнь. Писание свидетельствует, что звонкие символы и музыкальные инструменты - это средства, с помощью которых народ Божий выражает свою радость и воодушевление от Божьих дел в своих общинах. Колокола - лишь один из многих музыкальных инструментов, упомянутых в Писании. Например, в Псалме 150:1-6 говорится:
Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его.
Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.
Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях.
Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.
Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.
Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.[4]
Это подводит нас к четвёртому пункту: как говорится в этом стихе, музыкальный звон — это способ для общины верующих прославлять Бога. Звон колоколов выражает благодарность и преданность. А усилия, которые требуются — выделение времени, раскачивание колоколов и уход за ними — всё это во славу Божью. Мы должны использовать любую возможность, чтобы звонить в эти колокола! Разумеется, это требует усердия и сознательности, но этот звон является знаком нашей благодарности и хвалы Богу (И речь разумеется не о том, чтобы просто включать запись колокольного звона из динамиков на колокольне!).
Поистине, колокольный звон побуждает общину жить делами Божьими. И молодым, и пожилым необходимо вдохновение, чтобы уделять время духовной жизни. В «Немецкой мессе и порядке богослужения» Лютер утверждал, что ради детей и их возрастания в вере «мы должны читать, петь, проповедовать, писать и сочинять; и если это может каким-либо образом помочь или способствовать этим интересам, я бы хотел, чтобы все колокола звонили, все органы играли, и всё производило такой шум, на который способно».
В-пятых, и это связано с предыдущим пунктом, колокольный звон пробуждает нас из грезы, вырывает из обыденности и даже останавливает от зла. Звук колоколов устремляет наш взор к священному. Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте в своём magnum opus "Фауст" изображает главного героя в пасхальное утро в окружении тьмы - перед ним Мефистофель, приготовивший отравленное зелье. Когда Фауст подносит кубок к губам, раздаётся пасхальный колокольный звон, напоминающий ему, что надежда есть всегда, что у Бога есть план и что Он не оставил нас. Всегда есть возможность искупления! Колокола служат пробуждением во многих смыслах. Чем больше таких пробуждений посреди обыденности и светскости мира, тем лучше для нас.
Действительно, некоторые в обществе могут не поддерживать колокольный звон - например, те, кто не являются христианами, или те, кому просто не нравится этот звук. Там, где таких людей много, церквам следует проявлять благоразумие и осмотрительность, чтобы не вызывать без нужды раздражение. Однако даже в таких местах церкви должны стремиться звонить в колокола по особым случаям. Колокольный звон - это способ христиан заявить о своём присутствии, активности и готовности служить обществу с любовью. Это также способ активно продвигать христианские ценности и традиции. Церквам на территории христианских университетов или в районах с преимущественно христианским населением особенно рекомендуется установить регулярный ежедневный колокольный звон.
История конфискации колоколов нацистами напоминает нам о важности для христианских общин сохранять свою идентичность, культуру и общественные устои наряду с более широким светским обществом. Осознанный и регулярный колокольный звон может стать одним из способов выражения нашего коллективного христианского голоса – и в то же время дарования прекрасного звука, доступного каждому.
Примечания
[1] См. в статье Kirrily Freeman, “‘The Bells, too, Are Fighting’: The Fate of European Church Bells in the Second World War,” in Canadian Journal of History (Winter 2008): 1.
[2] См. в статье M. Parker & D.H.R. Spennemann, “Reverberating Silence: The Termination of Bells and Bell Ringing as an Exercise of Political Power,” Heritage & Society (2024): 1-21.
[3] См. в статье C. Mahrenholz, Das Schicksal der deutschen Kirchenglocken. Denkschrift über den Glockenverlust im Kriege und die Heimkehr der geretteten Kirchenglocken. Ausschuss für die Rückführung der Glocken. (1952); and Parker and Spennemann, “Reverberating Silence.“
[4] Синодальный перевод